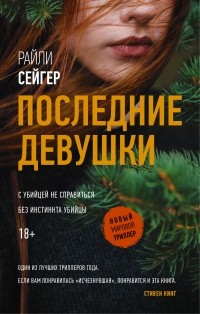Три вопроса важным писателям современной России#4
Писатель из Санкт-Петербурга Вадим Левенталь известен широкой аудитории благодаря своему роману «Маша Регина». Кроме того, он автор и составитель двухтомника «Литературная матрица», редактор в издательстве «Лимбус-пресс», ответственный секретарь общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер», а также основатель серии «Книжная полка Вадима Левенталя». В общем, литературой Вадим не занимается, а живёт ею. С кем, как не с ним, нужно говорить о книгах.
Три книги, которые искал
Ну, искать книги — это вообще мое занятие, моя профессия, я этим деньги зарабатываю как издатель. Разумеется, в жизни издателя не бывает так, что каждый день — новое блистательное открытие. Но любой издатель, если он достаточно долго работает, искренне гордится авторами, которых ему повезло открыть. То есть как раз теми, которых он нашел, обогнав других коллег-издателей, оказавшись прозорливее или смелее их.
Так вот, я нашел — то есть открыл, то есть самый-самый первый издал — довольно много авторов. Особенно горжусь тремя.
Это Упырь Лихой — самый смешной современный русский писатель, человек, чьи тексты последовательно отказывались брать и там, и здесь, и где бы то ни было. Люди просто боялись — слишком рискованно, слишком остро, слишком неполиткорректно. Что скажет Марья Алексевна? Галина Леонидовна? Виталий Валентинович? (Кстати, никто из них ничего так и не сказал, бояться было нечего.)
В общем, представьте себе ядерную смесь Салтыкова-Щедрина, Зощенко и Пелевина на современном материале — это и есть Упырь Лихой. И это я все-таки первый его издал.
Фигль-Мигль — еще один псевдоним (ну что я могу поделать; впрочем, оба псевдонима уже давно раскрыты). Если Упыря читаешь с хохотом, который невозможно остановить, то тут с твоего лица не слезает ухмылка: Фигль-Мигль — мастер иронии, не бросающейся в глаза, но убийственной. А ироничным может быть только очень умный человек.
Вот Фигль-Мигль как раз такой — один из самых умных современных русских писателей. Почитайте «Эту страну» — это ведь та же самая «Зимняя дорога», только на другом материале и в другой (литературной) форме, а так-то автор не менее осведомленный и мучающийся теми же вопросами.
Фигля-Мигля публиковали и до меня в каких-то журналах, но от его новой, настоящей, уже по-взрослому сделанной прозы дружественные издания отвернулись — а я схватился и пробил публикацию в «Лимбусе».
Ну и вот Денис Горелов, тоже — человек вроде бы знаковый, с бесчисленными публикациями в периодике, классик практически. Мы с ним встретились на дне рождения у общего товарища, я спрашиваю — а где все ваши статьи собраны, чтоб их можно было этак за раз в памяти освежить? А нигде, говорит, никто ко мне не обращался. Ну я не будь дурак говорю — все, подписываем договор. Иногда в этом деле важно оказаться в нужном месте, да еще и раньше остальных. Сейчас «Родина слоников» Горелова в лонг-листах двух крупных премий, и мы делаем вторую книжку — еще круче первой.
Три литературных героя, актуальных сегодня
Ох, да свойство любого хорошего (ну или, мм, большого) текста — он вводит в ноосферу яркого героя, который остается актуальным навсегда. А то и не одного. Актуальны все, от Одиссея и Антигоны до Татарского с Санькой. Кто не актуален — про того можно забыть нафиг.
Вот мой самый-самый любимый роман из всех вообще, он начинается с того, что Стива Облонский читает утреннюю газету. Он что, не актуален разве? «Либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове», — да там страницами можно цитировать, заменяя везде Степана Аркадьича мысленно на какого-нибудь Дмитрия Львовича — и будет актуальнее Mash'а.
А Анна? Несчастная женщина, которой хочется только одного — быть счастливой; а ей говорят, нет, ты не можешь, не имеешь права, потому что общество, потому что государство, потому что религия, потому что собственность, тебя за одну попытку только раздавят... Я так думаю, это и по сей день один из самых больных вопросов устройства человеческой общественной жизни.
Разве что Лёвиных вокруг не ходит — ну это потому что персонаж не пережил революции, зеркалом которой был.
А, три. Третьего-то надо придумать.
Ну, пусть будет Дориан Грей. Сами догадайтесь, почему.
Три современных классика
Ну, если прям чтобы бронза и патина, то пусть моя версия будет такая (только русские и только живые):
Битов — потому что он показал, что и в конце двадцатого века на русском языке можно делать крутые литературные конструкции, когда текст не течет сам собой, а именно строится, как строится какой-нибудь завод: здесь колесико, там турбина, все работает как единый механизм, и на всем — хищный глазомер инженера человеческих душ. Сейчас этот метод письма ушел в подполье, но настанет время, когда из этого подполья повылезают огромные боевые человекоподобные роботы и заступят на охрану границ прекрасного.
Лимонов — понятно, почему. Ну то есть потому что он прекрасен сам по себе (ну или был прекрасен вплоть до первой «Книги мертвых», а потом ему надоело). Но главное, потому что он создал школу — самую мощную литературную школу начала века в России, и эту реку теперь не перепрыгнешь, не объедешь, не подкопаешься, издалека-долго — любому придется через нее перебираться так или иначе, в лодочке или по мосту, брод искать или переправу наводить; хочешь не хочешь, а другого пути нет.
Пелевин — наоборот, так школы и не создал, никто ему подражать не смог, сколько ни пытались. Остался один, этакая одинокая гора. На вершину хрен заберешься, но зато она, недосягаемая, все время маячит в поле зрения на горизонте, можно по ней ориентироваться на местности.
Так что вот: завод, река и гора. Что нам в России еще нужно?
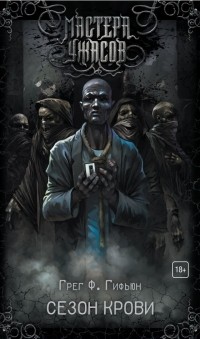 Тридцатисемилетний продавец подержанных автомобилей Бернард Мур покончил с собой, оставив магнитофонную запись, в которой он признается в серийных убийствах. Запись прослушали трое его лучших друзей - Алан, Рик и Дональд - и, мало им шока от такого известия, так вокруг ещё и начинает твориться мистическая чертовщина.
Тридцатисемилетний продавец подержанных автомобилей Бернард Мур покончил с собой, оставив магнитофонную запись, в которой он признается в серийных убийствах. Запись прослушали трое его лучших друзей - Алан, Рик и Дональд - и, мало им шока от такого известия, так вокруг ещё и начинает твориться мистическая чертовщина.


 Колонизация Луны произошла не так безоблачно, как ожидалось. Из лунного грунта на свободу была выпущена смертоносная болезнь, гроза и ужас XXI-го века. Официально ее именуют синдромом Лунарэ. Неофициально — Гнилью. В отличие от обычных болезней, Гниль не стремится сразу убить своего носителя. Она стремится его изменить, и внешне и внутренне. Превратить его в отвратительную пародию на человека, безумное и монструозное существо. Инспектор Санитарного Контроля Маан посвятил всю жизнь борьбе с Гнилью и ее носителями. У него высокий социальный класс, любящая семья, преданные сослуживцы. Он приносит пользу обществу, и общество его ценит. Жизнь для него сложилась достаточно неплохо. Он еще не догадывается, какой стороной может повернуться к нему эта жизнь в один момент. И какую цену заставит его заплатить общество.
Колонизация Луны произошла не так безоблачно, как ожидалось. Из лунного грунта на свободу была выпущена смертоносная болезнь, гроза и ужас XXI-го века. Официально ее именуют синдромом Лунарэ. Неофициально — Гнилью. В отличие от обычных болезней, Гниль не стремится сразу убить своего носителя. Она стремится его изменить, и внешне и внутренне. Превратить его в отвратительную пародию на человека, безумное и монструозное существо. Инспектор Санитарного Контроля Маан посвятил всю жизнь борьбе с Гнилью и ее носителями. У него высокий социальный класс, любящая семья, преданные сослуживцы. Он приносит пользу обществу, и общество его ценит. Жизнь для него сложилась достаточно неплохо. Он еще не догадывается, какой стороной может повернуться к нему эта жизнь в один момент. И какую цену заставит его заплатить общество.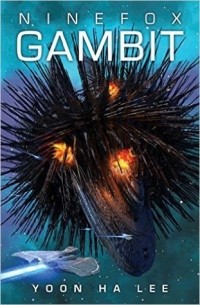 «Гамбит» — впечатляющий дебютный роман математика Юн Ха Ли, прославившегося серией фантастических рассказов. Под впечатлением от рассказа Харлана Эллисона «Паладин потерянного времени» и романа Орсона Скотта Карда «Игра Эндера» Ли придумал оригинальную историю, где реальность определяют календарная система и военные формации.
«Гамбит» — впечатляющий дебютный роман математика Юн Ха Ли, прославившегося серией фантастических рассказов. Под впечатлением от рассказа Харлана Эллисона «Паладин потерянного времени» и романа Орсона Скотта Карда «Игра Эндера» Ли придумал оригинальную историю, где реальность определяют календарная система и военные формации.