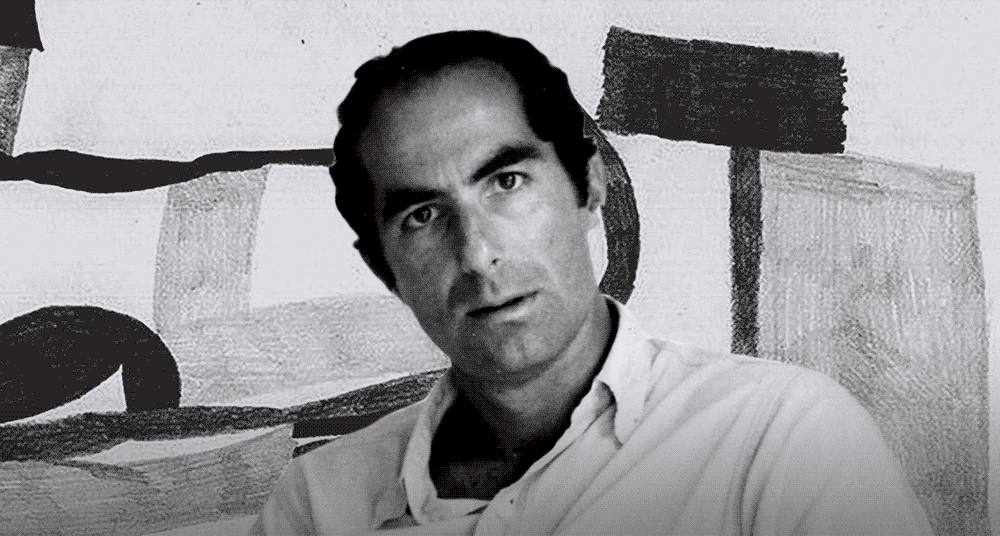«Вечера на хуторе близ Диканьки»: как напугать галушками
Гоголь? Серьезно? Мало что ли русской классикой вас в школе пичкали? Так наверняка подумает львиная доля современных читателей. Между тем о Николае Васильевиче с точки зрения weird fiction и хоррора поговорить очень даже стоило бы. А именно о его знаковом двухтомнике «Вечера на хуторе близ Диканьки», изданном в 1831–1832 годах.
Географическая привязка цикла — Полтавская губерния (сейчас Полтавская область Украины). Однако говоря об «Украине Гоголя», всегда следует помнить, что это Украина Центральная и Восточная, но никак не Западная. В середине XIX века Западная Украина входила в состав Австро-Венгрии со всеми вытекающими последствиями на уровне менталитета, языка и обычаев. Согласно «Словарю поговорок Карпатского региона» Савчука, словом «москаль» западные украинцы в былые времена могли называть не только россиян, но и выходцев из Восточной Украины!
Также хорошо бы перед погружением в «гоголевское» понимать культурологическую ситуацию, сложившуюся в Петербурге. А цвела там пышным цветом эпоха романтизма с ее дуэлями и балами — и тут вдруг получите книгу про галушки, сало да свиней! Справедливости ради нужно отметить, что исследования народного фольклора были популярным занятием в те времена у языковедов, композиторов и не только. Однако Ершов «причесывает» народную сказку о коньке-горбунке до высокой литературы, тем же примерно занимается Пушкин, облекая былины и сказания в поэмы. Очевидно, что совершенно другим путем идет Гоголь: он не заставляет героев Диканьки говорить и думать по-петербуржски, а живет и дышит с каждой строчкой их традициями, бытом и языком.
Сказывается и личное знакомство писателя с украинским селом, а также с таким явлением, как малороссийский театр (в то время на сцене часто играли непрофессиональные актеры, а постановки содержали имитацию перепалок, драк и споров с намеренной аффектацией, настроение в них «делали» диалоги). Знаком был Николай Васильевич и с «Энеидой» Котляревского, «малороссийской пародией» на вычурную и патетичную классику Вергилия. Но все же настал черед поговорить о художественных приемах самого прозаика. Ведь Гоголь — превосходный стилист, перед которым, по преданию, снял шляпу сам маэстро Кинг, да и Пушкин был в восторге от Диканьки. И это даже несмотря на предложения длиной с абзац и тремя точками с запятой подряд!
Гоголь намеренно абстрагируется от своего произведения как автор, приписывая данное сочинение перу некоего пасечника Рудого Панько. Зачем? Чтобы бессовестно подтрунивать над читателем, конечно же. Что примечательно, Гоголь с первых строк глумится даже над собственным ремеслом:
Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника дотащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее.
Многие уже при чтении данных строк зададутся вопросом: а там точно дальше будет страшно? Как мастеру удастся сочетать, на первый взгляд, не совместимые вещи: страх и смех? Попробуем ответить на этот вопрос на конкретных примерах.
«Достоверность» изображаемого Николай Васильевич не стремится передать с помощью привязке к точной дате. («Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот… восемьсот… Да, лет тридцать будет назад тому».) В его арсенале в этом плане предисловие от рассказчика — Рудого Панько. Текст выстраивается соответствующим образом — чтобы напоминать устный пересказ событий от первого лица. Для этого в него вводятся слова и словосочетания, выражающие оценку событий рассказчиком, а также некоторые личные впечатления, никак не связанные с предметом обсуждения, — например, все та же шутка о том, сколько народу в наше время готово заниматься сочинительством. Таким приемом Гоголь буквально забирает львиную долю внимания зрителя, не давая ему отыскивать несоответствия в сюжете либо просто сомневаться в достоверности рассказа. А кроме того, создает эффект непосредственного погружения читателя в мирок чертей, попов, нечистых и больших шматов сала.
Также подобно Лавкрафту Гоголь использует прием «закрытых дверей»: а вот эту часть, я вам, читатель, не расскажу. И вот эту шутку тоже вам рассказывать нельзя. А запрет, как известно, манит, подогревает интерес читателя к произведению в целом.
«Певцу Малороссии» с легкостью удается точность сравнений и метафор. Не найдется в его «Диканьке» никакого премерзкого «заката цвета лисьих шкур, что выделывают по осени охотники, когда наступает праздник винограда…» (Источник этой вольной цитаты — современная куртуазная литература «под Маркиза де Сада»). Лучше обратимся теперь к Гоголю:
Он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин.
Портрет готов, характер выписан. А чего стоит один этот «цвет застуженного картофельного киселя» — по сравнению с ним «цвет бедра испуганной нимфы» смущенно курит в сторонке.
Следующий прием маэстро, на который хотелось бы обратить внимание, касается жанра вирд. Как ни странно, Гоголю удается подробнейшим описанием портрета ввести читателя в чувство потери контроля происходящего и поселить в нем желанную тревогу. Как ему это удается, как вообще можно раскрытием подробностей тревожить и оставлять в неведении? Достаточно обратить внимание на самое начало гоголевских портретов. К примеру, вот важный гость резко вскакивает с места и расставляет ноги. Мы ожидаем, что он бросится в драку, однако вместо этого он лишь обстоятельно нюхает табак. Именно в этот момент читатель зябко ежится от столкновения со странным. Эффект подкрепляется тем, что процесс употребления табака описывается как нельзя подробно, будто имеет некий сакральный смысл.
Комичное у Гоголя водится не только на уровне действий, а и на уровне звуков и отдельных слогов. Здесь и байка о студенте, который к предметам быта начал добавлять латинизированное «ус», и игра слов: «вместо шиша рука потянулась к книшу». Во втором случае можно говорить о вплетении элементов народных поговорок в стилистику текста, что еще больше погружает читателя в эпоху и созданное автором место.
Еще один прием позволяет автору «Диканьки» создать поистине завораживающий эффект: многие фразы выстроены не совсем так, как принято в русском языке. Гоголь словно переводит для нас рассказ с украинского на русский, сохраняя порядок слов и манеру изъяснения малороссов того времени.
«Сорочинская ярмарка». В данном рассказе Гоголь использует «деперсонификацию портретов», фактически приравнивая описания обезличенных персонажей к пейзажной функции. В самом начале произведения он не называет их имен, статуса в обществе, не прокладывает им начальную и конечную точку пути, оставляя висеть в пространстве безымянными статистами. Страшного в этом приеме пока немного, зато атмосферы — хоть отбавляй. Гоголь намеренно настраивает на созерцательный настрой сельскими сценами, как вдруг: «А вот впереди и дьявол сидит!». Реакция на такое заявление у прочих героев также неожиданная: «хохот поднялся со всех сторон». Другой действенный прием: пусть о страшном рассказывают рассказчики, и еще лучше, если они будут рассказывать о том, что до этого уже рассказали им другие (привет «Инсмуту» Лавкрафта). Следующий прием: спешно перелезающие через плетень по каким-то тайным и нечистым делишкам герои в подробностях обсуждают… сколько именно благ досталось местному батюшке. Таким образом, повествование ведется на стыке вирда и комичного. Еще один прием — повтор непонятного читателю словосочетания в разных частях текста для нагнетания обстановки — «красная свитка». Постепенно доводя количество странного до состояния абсурда, автор «Диканьки» заставляет читателя трепетать в смешанных чувствах.
«Вечер накануне Ивана Купала». И снова целый булыжник в огород бумагомарателей, прикрывающихся писателями:
Раз один из тех господ — нам, простым людям, мудрено и назвать их — писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, — один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю.
Неприкрытая сатира служит своеобразным и живым обрамлением истории. Почти осязаемую достоверность рассказа Гоголь обеспечивает невероятной проработкой деталей: очки, перевязанные ниткой и скрепленные воском — тому подтверждение. Как и предыдущий текст, «Вечер накануне Ивана Купала» застает потусторонние силы занятыми бытовыми делами, а жителей Диканьки — за, опять же, бытовыми вопросами, но будучи невольно вовлеченными в потустороннее. Причем зло находит даже старого деда, что пять лет вынужден доживать старость на печи. А заезжий в село дьявол был замечен на гулянках и поминках, а странен лишь тем, что время от времени пропадал в неизвестном направлении. Гоголь проводит смещение акцентов странного, усугубляя путаницу ощущений от прочитанного. Откровенно страшному отводится место в лесной сцене: здесь и невинно убиенное дитя, и кровь, и ведьма с диким хохотом и способностями к перевоплощению. Состояние героя Гоголь подкрепляет состоянием окружающего мира:
Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, распалившись, дрожало.
Весьма подробно и обстоятельно автор выписывает помутнение разума героя, а завершает текст новым, неожиданным появлением черта — не избавитесь, не старайтесь.
«Майская ночь, или Утопленница». Страшное бесцеремонно вторгается в свидание влюбленных:
Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.
А они, кажется, этому только и рады, и ну давай тешить себя страшными историями — о дивчине, которую взялась сживать со свету мачеха в облике черной злой кошки. Другие персонажи, сельский голова и винокур, также заканчивают свою беседу жутковатой историей — той самой хорошо знакомой многим байкой о госте, что съел все галушки и подавился, как только ему того пожелали. Но на этом чудеса и странности не заканчиваются:
Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать — погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу. — И галушка в зубах? — И галушка в зубах.
Дальнейшую темноту, абсурд и неразбериху автор без труда передает обрывочными, взявшимися невесть откуда героями, ударами, деталями, репликами. Вирд проступает во внезапной замене одного персонажа другим в темной коморе, повторяющейся несколько раз подряд. Отдохновением для читателя после всей этой фантасмагории выглядит явление панночки-утопленницы и ее жалобы:
Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее.
Насыщенные странным, страшным и абсурдным рассказы бывает непросто завершить в достойном ключе. Гоголь здесь идет весьма нетривиальным путем: в финале рассказа он фокусируется на пьяном Каленике. Присмотревшись к нему поближе, читатель поймет, что кроме этой функции Каленик взял на себя еще одну — связать сцену влюбленных со сценой в хате головы. Именно внезапное возвращение к обыденному после страшного и странного дополнительно воздействует на читателя.
За столетие до Лавкрафта Гоголь использовал в литературе целый арсенал приемов, которые затем станут достоянием мастеров литературы хоррора и вирда. Но сколько их еще дремлет, не раскрытых, под мягким одеялом забытья?




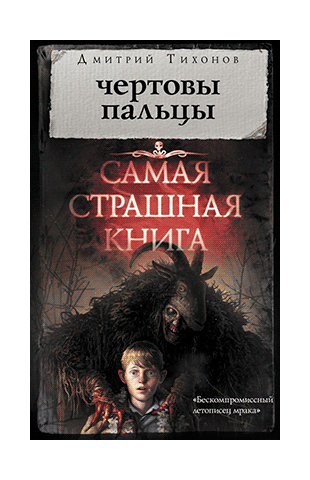 «Чертовы пальцы» — сборник разнородный, под одной обложкой собраны как мифические создания, чьи когтистые лапы тянутся к нашему горлу, так и рассказы, где в роли монстра выступает сам человек. Ряженого из одноименного рассказа наверняка можно отнести к одному из самых интересных монстров сборника — не удивительно, что именно этот персонаж украсил обложку. По селу идет беснующаяся свора ряженых, они выглядят жутко: тулупы наружу мехом, на головах маски животных и чертей, кривляния и шутовские бои на потеху публике.
Правда в определенный момент веселье оборачивается ужасом — убийством ребенка, которое происходит прямо на глазах главного героя.
«Чертовы пальцы» — сборник разнородный, под одной обложкой собраны как мифические создания, чьи когтистые лапы тянутся к нашему горлу, так и рассказы, где в роли монстра выступает сам человек. Ряженого из одноименного рассказа наверняка можно отнести к одному из самых интересных монстров сборника — не удивительно, что именно этот персонаж украсил обложку. По селу идет беснующаяся свора ряженых, они выглядят жутко: тулупы наружу мехом, на головах маски животных и чертей, кривляния и шутовские бои на потеху публике.
Правда в определенный момент веселье оборачивается ужасом — убийством ребенка, которое происходит прямо на глазах главного героя. Шотландия семидесятых годов двадцатого века. Безымянный город, где идут бесконечные дожди. На его мрачных улицах путника то и дело норовят ограбить или даже убить. Преступность, продажность, неблагополучие… Но если одни смиренно живут в таких условиях, другие ищут в себе силы сопротивляться.
Шотландия семидесятых годов двадцатого века. Безымянный город, где идут бесконечные дожди. На его мрачных улицах путника то и дело норовят ограбить или даже убить. Преступность, продажность, неблагополучие… Но если одни смиренно живут в таких условиях, другие ищут в себе силы сопротивляться.