Шамиль Идиатуллин
Победитель - о текстах коллег. Очень круто.
Артем Ляхович
ОБЗОР ФИНАЛА КНИГУРУ-2019
Писать о писателях принято с командной высоты. Не обязательно с руганью, но чтоб была видна дистанция: вот автор - и вот я, который знает, конечно, всему этому цену, но вслух не говорит, ибо культурный.
Я так не умею, поэтому буду всех хвалить. Начну со своего удачливого конкурента ЭДУАРДА ВЕРКИНА. Его повесть "Осеннее солнце" - лучшее, что я у него читал. В этом жанре (хочется назвать его "бунинским декадансом", но набегут филологи и нагрубят мне) - в этом жанре Веркин так прекрасен, что каждую бесконечно длящуюся сцену хочется не отпускать от себя и продлить ещё. Любой другой автор поставил бы себе зачёт и ушёл отдыхать, - но Веркину этого мало. В самом конце, когда никто уже ничего не ожидает, он готовит бомбу, взрывающую жанр изнутри. Стоит намекнуть на мистическое происхождение Графа - и все раздаётся вглубь и вширь, как Вселенная после Большого взрыва, и уже нет "текста о вымирании деревень", а есть Текст об очень многом, если не обо всем.
Остроумнейшая СВЕТЛАНА ЛАВРОВА написала такую смешную повесть, что за одно это можно было бы простить отсутствие всего, что в ней есть ещё: живых характеров, интриги и роскошного (ну лапочка просто) абсурдистского хода - Японии в Ебурге. И тоже: несколько ненавязчивых намёков на то, что питерская гостья - настоящая кицунэ, - и лубок превращается в фантастику "как по-настоящему".
"Дом над радугой" КАТЕРИНЫ МУРАШОВОЙ - рискованный, но успешный выход из тренда Правильной Социальной Фантастики: если Правильная предписывает обличать тоталитаризм в пользу прав человека, то Мурашова безжалостно впивается в изнанку этих самых прав, показывая, что и там засел все тот же тоталитаризм, незаметный в лучах Инклюзивной Толерантности. Похожую штуку проделал когда-то Достоевский в "Бесах", поковырявшись в тогдашнем авангарде общественных идеалов. Мурашова делает очень крутой, в общем-то, ход: наглядно показывает, что свобода не равна никаким ее общественным гарантиям. Тут безумно трудно пройти по лезвию бритвы, и чтобы к тебе не прилипло всякое правоконсервативное - "ах, ты обличаешь либерастов? идём же, обнимемся!" Мурашова прошла - и не прилипло.
Цикл рассказов ТАТЬЯНЫ ИЛЬДИМИРОВОЙ "Замри!", объединённых общими героями и темами - бьющий по всем мозолям концентрат детских обид. На лучших подруг, на одиноких мам, поглощенных паническим выживанием в постсовке, и на весь идиотический взрослый мир в целом. Это сугубо женское царство: папы здесь и не ночевали. Сильно, местами жестоко написанный, текст Ильдимировой оставляет двойственное ощущение - и упрёка "неправильному времени" 90-х, и ностальгии по нему. Что и прекрасно, как по мне.
"Азот и Селедочкина" АИ ЭН довольно-таки бесцеремонно окунает читателя в бескомпромиссность детской игры. Если уж игра как игра, а не взрослая игра в неё - то чтобы никто не отличил Золото от девочки, которая "золотко моё". И совершенно не обязательно объяснять читателю, сунувшему сюда свой нос, что это не реальность, а игра, потому что настоящая игра и есть реальность. Дерзкий, искристый, виртуозно написанный текст.
Двойное дно повести "Вирта" ЕКАТЕРИНЫ КАРЕТНИКОВОЙ спрятано уже в названии: это и виртуальность, и одновременно - название водоёма под Питером, где кипят страсти сюжета. Тут два рассказчика, рассказывающих одну и ту же историю - каждый со своей стороны, и эти стороны настолько разные (при явной общности и симпатии героев друг к другу), что поневоле задумаешься. О доверии и недоверии, о пределах виртуального понимания - и о пределах понимания вообще. Нужный текст, просто и наглядно показывающий сложные вещи.
"Девять желаний Ани" ОЛЬГИ ЛУКАС - современная вариация на вечные темы Золотой рыбки и Цветика-семицветика. Без труда не выловишь, ну да, все в курсе, - но автор с феей Лаурой наглядно показывают конкретные современные реалии этого "не выловишь" на примере модных детских мечтаний. Мечтания автоматически переходят в статус "сколько за что нужно платить", и читатель вместе с героиней учится соразмерять желаемое с калориями и попочасами, требуемыми для его осуществления. Жестковато, но справедливо.
"Если, то" КСЕНИИ ШАБАНОВОЙ - цикл зарисовок о подростках, выхваченных, что называется, из гущи, из самого-самого потока, который несётся перед нами, цепляя нервы характерами и взглядами, - а попробуй-то ухвати их и отпечатай в словах. У Шабановой получилось. Ее герои такие живые, что вот-вот спрыгнут с монитора и предъявят нам свои глобальные, как им и полагается, проблемы.
"Огни студеного моря" НИКИ СВЕСТЕН - живо, красиво, с любовью написанный идеальный мир подростков. Нет, я не сказал "бескофликтный", конфликты-то там ого-го - и внутри подростковой тусовки, и извне, со взрослым миром. Но во всем тексте сквозит такое любование каждым персонажем (исключая, разумеется, плохих взрослых), каждой ситуацией, каждым поворотом мысли, каждой интонацией и взглядом, что туда хочется переселитися и забить на эту глупую идею стать взрослым. А ещё Свестен удался самый поэтичный, как на мой вкус, женский персонаж в шорте.
"Дом четырёх ладоней" ЛАРИСЫ РОМАНОВСКОЙ - новая виртуозная вариация на топовую тему автора - "белая ворона в потоке повседневности". Романовская пишет "серым по серому" и находит не 50 оттенков, не к ночи будь помянуты, а миллион. Серая повседневность расцветает такими полутонами, что не требует никаких других красок от автора, манипулирующего тоской по ним, которая накапливается и у героини, и у читателя. Текст Романовской интроверсивен, и она умеет затягивать читателя в эту интроверсию, не обещая ему никаких развлечений. И связь с "хозяевами" четырёх ладоней, обретенная в конце, воспринимается как долгожданное чудо - или хотя бы его заменитель в мире, где чудес не бывает.
"Вайнахт и Рождество" АЛЕКСАНДРА КИСЕЛЕВА - чутко найденный баланс того, как писать для детей про войну - без идеологии, без героизации, без чернухи, без соплей в сиропе - без всего лишнего. По-новому. Подмывает назвать текст Антикибальчишем, но это, наверно, неправильно. Антикибальчиш - развенчание, а здесь не "анти", здесь "за".
"Квартира номер сто" ЛЮДМИЛЫ ПОТАПЧУК - очень органичный срез детского мира, с живыми характерами, ситуациями и речью. Каждой интонации хочется сказать "верю". И аллегория, стоящая за незамысловатой мистикой финала, тоже органична и понятна (но все-таки, наверно, скорее взрослым).
"Всем выйти из кадра" ЛИЛИИ ВОЛКОВОЙ - наверно, самый до блеска начищенный текст финала: каждая фраза сверкает. И при этом - точные характеры, точные ситуации, точная речь. Автор кажется мне таким себе снайпером - или скорей гравером: что ни движение, то в точку, и ни микроном правее или левее.
"Мой сосед Тоторо" ИРИНЫ БОГАТЫРЕВОЙ - повесть, в которой, помимо проникновенного "внутреннего портрета" девочки (чуть не написал "с персиками", и не зря), есть ещё два необычных образа. Первый - "особенный" мальчик, за которым туманится мистика, очерченная бегло и интригующе. Второй - позитивный образ папы. Взрослым в подростковой литературе редко везёт, и их актуальный максимум, с которым давно все смирились - чтобы они хотя бы никому не мешали. А уж папу-героя я и не помню, когда встречал.
Ну, и про себя. Приличия требуют достать плетку и побыть этим, как его, флагеллантом, но я нагло признаюсь, что люблю свой текст. Я многое попытался в него засунуть, и пока отзывы показывают, что засунутое засунулось куда-то за подкладку, - но, по крайней мере, одной цели я добился: создать виртуальный симулятор. Судя по отзывам, именно так подростки его и воспринимают, - а значит, ура. И вообще ура.
Порядок перечисления авторов в обзоре - произвольный, по мере вспоминания. Обзор выражает моё субъективное мнение, что теоретически не мешает ему быть абсолютной истиной. (Ну, мало ли.) И да: это был самый крутой шорт на моей памяти. Я дико счастлив, что попал в вашу компанию.



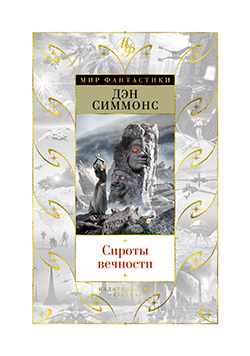 Сказать, что все знают Дэна Симмонса, было бы преувеличением, но о его «Гиперионе» и «Эндимионе», «Друде, или Человеке в черном» и особенно о «Терроре» (экранизирован в 2018 году в формате телесериала, продлен на второй сезон) слышали определенно многие. Так вот, сюрпрайз: помимо всех этих (и многих других) здоровенных романов Симмонс пишет повести и рассказы — по крайней мере, писал еще несколько лет назад. Нечасто, с годами все реже, но за четыре десятилетия таких текстов накопилось три с лишним десятка. Теперь, на радость поклонникам и в посрамление хейтеров, все они собраны в одном гигантском томе объемом 1 120 страниц, аналога которому нет, кажется, даже в США. В «Сироты вечности» вошли три авторских сборника, «Молитвы разбитому камню» (1991), «Любовь-Смерть» (1993) и «Миров и времени сполна» (2002), плюс несколько текстов, публиковавшихся на языке оригинала россыпью, — часть произведений заново отредактирована дотошной Екатериной Доброхотовой-Майковой, часть переведена с нуля, часть публикуется на русском впервые.
Сказать, что все знают Дэна Симмонса, было бы преувеличением, но о его «Гиперионе» и «Эндимионе», «Друде, или Человеке в черном» и особенно о «Терроре» (экранизирован в 2018 году в формате телесериала, продлен на второй сезон) слышали определенно многие. Так вот, сюрпрайз: помимо всех этих (и многих других) здоровенных романов Симмонс пишет повести и рассказы — по крайней мере, писал еще несколько лет назад. Нечасто, с годами все реже, но за четыре десятилетия таких текстов накопилось три с лишним десятка. Теперь, на радость поклонникам и в посрамление хейтеров, все они собраны в одном гигантском томе объемом 1 120 страниц, аналога которому нет, кажется, даже в США. В «Сироты вечности» вошли три авторских сборника, «Молитвы разбитому камню» (1991), «Любовь-Смерть» (1993) и «Миров и времени сполна» (2002), плюс несколько текстов, публиковавшихся на языке оригинала россыпью, — часть произведений заново отредактирована дотошной Екатериной Доброхотовой-Майковой, часть переведена с нуля, часть публикуется на русском впервые.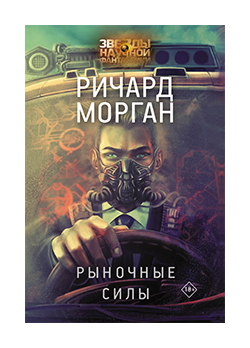 «Менеджер по инвестициям» — смертной тоской веет от этих слов. Оценка инвестиционного климата, мониторинг объектов, подсчет эффективности, анализ хозяйствующего субъекта, подбор портфеля, аудит подрядчиков, подготовка отчетов — цифры, бумаги, совещания, биржевые сводки, аж челюсть сводит от зевоты. Крис Фолкнер — преуспевающий менеджер в отделе «Инвестиции в конфликта» компании «Шон и партнеры»: носит дизайнерские костюмы, ездит на «Саабе» ручной сборки и время от времени появляется на обложках глянцевых журналов, сияя белозубой улыбкой. Но завидев Криса — или, если уж на то пошло, любого из его коллег, — уличные громилы смущенно замолкают, прячут глаза и осторожно обходят «манагера» по стеночке. Много лет назад, после череды экономических кризисов, биржевых крахов и рецессий, внутри корпоративного мира включился новый механизм эволюции, «офисный планктон» отрастил когти и зубы, которым позавидовал бы Tyrannosaurus rex. Чтобы пробиться наверх и не вылететь на улицу, в разросшееся гетто, каждому младшему бухгалтеру приходится драться, жестко, не на жизнь, а на смерть — одними сданными вовремя квартальными отчетами не отделаешься. Ну а за спиной у любого топ-менеджера, можно не сомневаться, остались десятки поверженных противников, таких же сильных, хитрых и умелых корпоративных киллеров, которым однажды просто не повезло.
«Менеджер по инвестициям» — смертной тоской веет от этих слов. Оценка инвестиционного климата, мониторинг объектов, подсчет эффективности, анализ хозяйствующего субъекта, подбор портфеля, аудит подрядчиков, подготовка отчетов — цифры, бумаги, совещания, биржевые сводки, аж челюсть сводит от зевоты. Крис Фолкнер — преуспевающий менеджер в отделе «Инвестиции в конфликта» компании «Шон и партнеры»: носит дизайнерские костюмы, ездит на «Саабе» ручной сборки и время от времени появляется на обложках глянцевых журналов, сияя белозубой улыбкой. Но завидев Криса — или, если уж на то пошло, любого из его коллег, — уличные громилы смущенно замолкают, прячут глаза и осторожно обходят «манагера» по стеночке. Много лет назад, после череды экономических кризисов, биржевых крахов и рецессий, внутри корпоративного мира включился новый механизм эволюции, «офисный планктон» отрастил когти и зубы, которым позавидовал бы Tyrannosaurus rex. Чтобы пробиться наверх и не вылететь на улицу, в разросшееся гетто, каждому младшему бухгалтеру приходится драться, жестко, не на жизнь, а на смерть — одними сданными вовремя квартальными отчетами не отделаешься. Ну а за спиной у любого топ-менеджера, можно не сомневаться, остались десятки поверженных противников, таких же сильных, хитрых и умелых корпоративных киллеров, которым однажды просто не повезло.
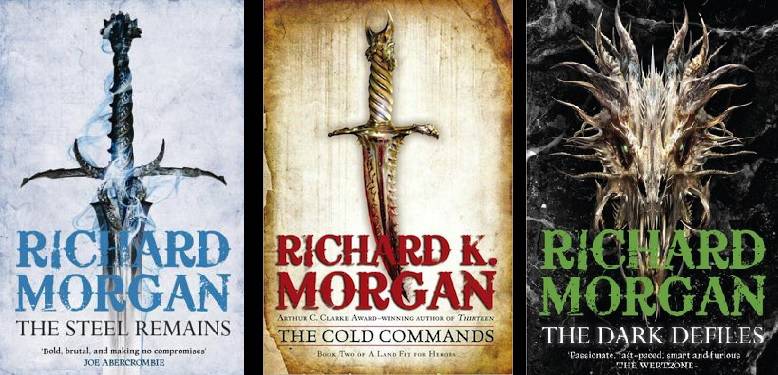
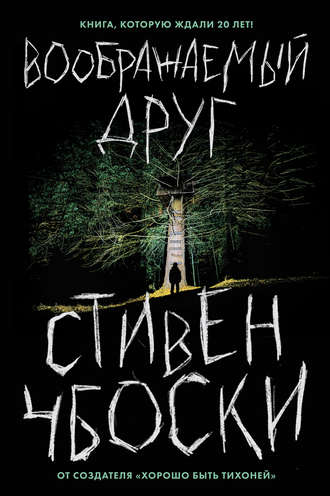 Семилетний Кристофер вместе со своей матерью переезжает в маленький городок Милл-Гроув в Пенсильвании. Реальный страх , что жестокий бывший возлюбленной матери их найдет, быстро сменяется ужасом, рожденным злом фантастическим. Вскоре у Кристофера появляется воображаемый друг. Этот славный человек, как называет его мальчик, советует Кристоферу построить домик на дереве, а иначе на Рождество случится нечто страшное. Чбоски мастерски погружает читателя в историю, заставляя сначала сомневаться в ментальном здоровье мальчика, но затем полностью окутывает нас мистикой, в которую сразу же начинаешь верить. Пока Кристофер борется с кошмарами и следует указаниям воображаемого друга, пенсильванский городок медленно погружается во тьму.
Семилетний Кристофер вместе со своей матерью переезжает в маленький городок Милл-Гроув в Пенсильвании. Реальный страх , что жестокий бывший возлюбленной матери их найдет, быстро сменяется ужасом, рожденным злом фантастическим. Вскоре у Кристофера появляется воображаемый друг. Этот славный человек, как называет его мальчик, советует Кристоферу построить домик на дереве, а иначе на Рождество случится нечто страшное. Чбоски мастерски погружает читателя в историю, заставляя сначала сомневаться в ментальном здоровье мальчика, но затем полностью окутывает нас мистикой, в которую сразу же начинаешь верить. Пока Кристофер борется с кошмарами и следует указаниям воображаемого друга, пенсильванский городок медленно погружается во тьму.


