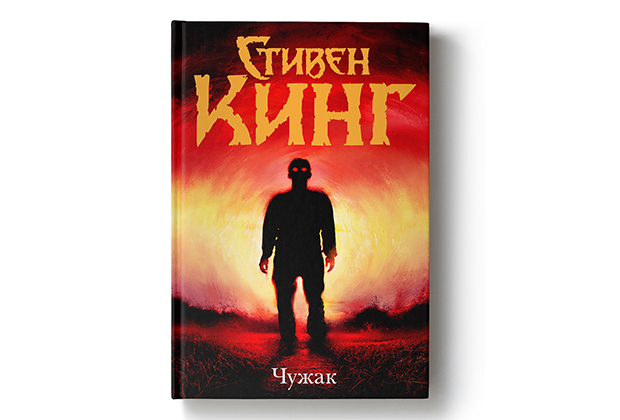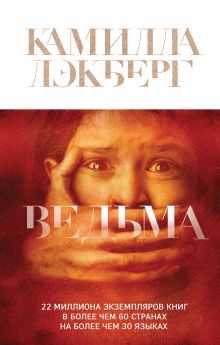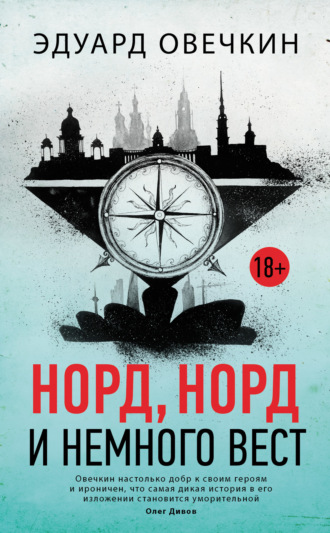Василий Владимирский.
Чего в этой подборке мне остро не хватает, так это оценки с позиции фольклориста, человека, профессионально работающего с исходным материалом, из которого выросла книга. Возможно, такой наблюдатель увидел бы то, что укрылось от остальных рецензентов. Ну, будем надеяться, фольклористы еще подтянутся: книга громкая, разговоров будет много.
СПОРНАЯ КНИГА: АНДРЕЙ РУБАНОВ, «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ»
Андрей Рубанов. Финист — ясный сокол.
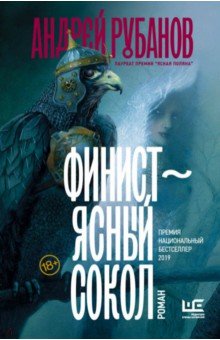 Евгения Вежлян в материале «Золотой дом, стихи-наркотики и смертельная белизна» («Литературно») говорит о методах, которые использует Андрей Рубанов, чтобы создать эффект погружения: «В основе сюжета — всем известная русская народная сказка о чудесном женихе-оборотне и его невесте, которая сначала его потеряла, а потом, пока искала, износила сто пар железных сапог. И ничего бы особенного не было в том, что автор залезает внутрь сказочного сюжета и пытается воссоздать в подробностях мир, в котором были бы возможны подобные события, если бы не способ, которым все это излагается. История делится на три эпизода, каждый из которых рассказан одним из его участников, причем рассказ выглядит так, как будто бы он был записан на диктофон. И сначала это кажется лишним и странным, даже раздражает (ну не Букша же это, в конце концов, не Анна Немзер, которые — для другого и о другом). А потом не только привыкаешь, но и понимаешь, что этот способ рассказа дает сильнейший эффект погружения. Так что интрига оказывается вроде бы даже и не в самих событиях. С детства хорошо известные сказочные эпизоды из-за этого эффекта диктофонной записи наполняются каким-то странным, почти неуловимым дополнительным смыслом. Он и влечет от страницы к странице, не позволяя оторваться от чтения… Все герои явно рассказывают свою историю кому-то конкретному, адресуются к кому-то за кадром, а он — записывает. Но кто он, этот загадочный слушатель? И только в самом конце твоя первоначальная догадка о том, что с рассказыванием что-то не так, получает самое неожиданное подтверждение... Но это, пожалуй, уже почти спойлер».
Евгения Вежлян в материале «Золотой дом, стихи-наркотики и смертельная белизна» («Литературно») говорит о методах, которые использует Андрей Рубанов, чтобы создать эффект погружения: «В основе сюжета — всем известная русская народная сказка о чудесном женихе-оборотне и его невесте, которая сначала его потеряла, а потом, пока искала, износила сто пар железных сапог. И ничего бы особенного не было в том, что автор залезает внутрь сказочного сюжета и пытается воссоздать в подробностях мир, в котором были бы возможны подобные события, если бы не способ, которым все это излагается. История делится на три эпизода, каждый из которых рассказан одним из его участников, причем рассказ выглядит так, как будто бы он был записан на диктофон. И сначала это кажется лишним и странным, даже раздражает (ну не Букша же это, в конце концов, не Анна Немзер, которые — для другого и о другом). А потом не только привыкаешь, но и понимаешь, что этот способ рассказа дает сильнейший эффект погружения. Так что интрига оказывается вроде бы даже и не в самих событиях. С детства хорошо известные сказочные эпизоды из-за этого эффекта диктофонной записи наполняются каким-то странным, почти неуловимым дополнительным смыслом. Он и влечет от страницы к странице, не позволяя оторваться от чтения… Все герои явно рассказывают свою историю кому-то конкретному, адресуются к кому-то за кадром, а он — записывает. Но кто он, этот загадочный слушатель? И только в самом конце твоя первоначальная догадка о том, что с рассказыванием что-то не так, получает самое неожиданное подтверждение... Но это, пожалуй, уже почти спойлер».
Егор Михайлов в обзоре «Пионеры, вампиры и другие» («КомерсантЪ-Сибирь») подбирает неожиданные литературные параллели и размышляет об исходном авторском замысле: «“Финист” — это уже не короткая сказка, а густонаселенный фэнтези-мир, расходящийся новыми тропками во все стороны; к оригинальному тексту он относится примерно как “Властелин колец” к “Хоббиту”.
Сравнение с эпопеей Толкина напрашивается еще и из-за трехчастной структуры романа. Разбивая сюжет на три акта — завязка, развитие, кульминация — Рубанов фактически пишет три отдельных романа; в каждом свой сюжет, свой рассказчик. <...>
История Марьи, стаптывающей железные сапоги в поисках возлюбленного Финиста, в итоге оказывается тонкой ниточкой, с трудом сшивающей воедино эти три отдельных текста. Финал недвусмысленно указывает на то, что Рубановнечто подобное и замышлял: это история о том, что кроме главного героя — героини в данном случае — в любой истории есть множество второстепенных персонажей, которые незаслуженно остаются за кадром. Вот этих второстепенных Рубанов и воспевает в своем романе — да так, что они затмевают всех героев оригинальной сказки, включая вынесенного в заглавие Финиста. Не очень ясно, нужен ли вообще Рубанову платоновский сюжет, но даже если вынести его за скобки, у Рубанова получился отменный фэнтези-роман — редкая птица в фауне русскоязычной литературы».
В рецензии «“Финист — ясный сокол” Андрея Рубанова: птичку жалко» («Афиша-Daily») Егор Михайлов сетует, что среди второстепенных героев, которым автор решил дать голос, почти нет женщин: «Сказка про Финиста — один из редких сюжетов русского фольклора, в котором женщина выступает не просто важным персонажем, но активным протагонистом (протагонисткой!). Фактически это вывернутая наизнанку сказка о царевне-лягушке: не парень теряет возлюбленную и отправляется в поход за ней, а девушка снашивает железные сапоги, чтобы спасти возлюбленного из щекотливой ситуации. И вот за этот сюжет про girl power взялся писатель, известный романами о суровых мужчинах в суровых условиях — неужели Рубанов решил совершить кувырок и выдать что-то для себя несвойственное? Как бы не так; он то ли не видит этой возможности, то ли уверенной мускулистой ладонью отстраняет ее.
Композиционно “Финист” состоит из трех частей, в которых Мария соответственно расстается с Финистом, отправляется на его поиски и, наконец, хитростью вызволяет его из плена. Структура стандартная, но Рубанов превращает каждую из частей в отдельную историю — каждая могла бы при желании оборотиться самостоятельным романом. В каждой из частей — свой рассказчик со своими целями. <...> История Марии и Финиста сшивает эти три сюжета в единый нарратив.
Задумка благородна: он показывает, что кроме главных героев в каждой истории есть второстепенные персонажи, чьих имен люди не помнят. Давая им слово, Рубанов вроде бы возвращает голос безымянным Иванам, бойцам невидимого сказочного фронта — даже если этих бойцов приходится выдумать, поскольку изначальная сказка неплохо обходилась без них. Но вводить новые сюжеты у Рубанова получается только за счет ощипывания старых. <...> Единственным условно женским персонажем, которому Рубанов оставляет возможность активно поучаствовать в событиях “Финиста”, остается только старуха Язва, почти бесполое создание. “Финист — ясный сокол” — редкий русский сюжет, который мог бы рассказать об интересном женском персонаже; Рубанов пересказывает его от лица трех мужчин. Такой вот сказочный менсплейнинг».
Галина Юзефович в рецензии «“Финист — Ясный сокол”: русское народное фэнтези от автора “Патриота” и сценариста “Викинга”» («Медуза») говорит о безликости героини, вокруг которой вращается вся эта история и непроработанности языковой среды «Финиста...»: «Первое, что надо знать о новом романе Андрея Рубанова “Финист — Ясный сокол”, — это то, что он — настоящее, классическое фэнтези. Не аллегория, не сатира, не пародия, не так называемая серьезная проза в маскарадном костюме жанровой, а ровно то, чем кажется на первый взгляд, — честный обстоятельный рассказ об условной славянской древности (не находимой, понятное дело, ни на карте, ни на хронологической прямой) со всеми ее неизбежными атрибутами, от Змея Горыныча до Бабы-яги. <...>
Очевидно, что Рубанов неслучайно сделал свою Марью фактически безликим статистом: она важна не как личность, но исключительно как сюжетная ось — как, если угодно, сердцевина коловрата (славянского циклического миропорядка), вокруг которого вращаются судьбы прочих героев. Но на практике отсутствие у Марьи самостоятельного характера и, по сути дела, собственного лица лишает роман смыслового центра тяжести. <...>
Вторая проблема “Финиста” — очевидная авторская поспешность, вылившаяся как в многочисленные нестыковки (не столько важные, сколько раздражающие), так и в первую очередь в непродуманность, нестройность романного языка. Герои то с разбега ухаются в выспреннюю архаику, то вдруг начинают оперировать выражениями вроде “внутренние духовные резервы” или “письменная культура”. Как следствие, рубановскому миру, творимому языковыми средствами (а именно таким способом в первую очередь и создаются фэнтези-миры), тоже ощутимо недостает целостности и внутренней логики...»
Наталья Ломыкина в обзоре «Неоправданные ожидания: вышли два новых больших романа Сальникова и Рубанова» («Москва 24»), напротив, никаких несообразностей во всех этих «внутренних духовных резервах» не видит, а предлагает обратить внимание прежде всего на необычный ритм текста: «“Финист — Ясный Сокол”, разумеется, роман о силе любви, о женщине-воине, которые не так часто встречаются в жизни, и о мужчинах, готовых ей помочь. Но не только. Все трое — глумила, воин и летучий изгнанник — много странствовали, и через их “изустную побывальщину” Андрей Рубанов воссоздает картину мира, образ мыслей, само сознание наших предков.
По силе воздействия, “Финист-Ясный Сокол” — роман-заклинание. Здесь нет ни одного лишнего звука — слова с латинскими корнями или, скажем, понятия дня сегодняшнего вымараны безжалостно. “Финист” завораживает особым ритмом. И по мере того, как напряжение нарастает, славянский сказ перерождается из архетипического фэнтези в большой роман. “Выверни свою судьбу, парень, изучи изнанку”, — говорит воину Ивану мудрая бабка Язва. И Андрей Рубанов идет тем же путем. Вывернуть, выверить, прощупать свое прошлое, разобраться, как оно устроено. Именно за этим автор реалистической злободневной прозы шагнул в четвертый век. Там, где скоморохи били в бубны, сочиняли глумы и спорили о коловрате, где воины приносили требы и постигали суть воинского братства, где одни бабы мотали куколок без лица, а другие — в пыль стирали железный посох, там исток дня сегодняшнего. Андрею Рубанову, безусловно, удалось его отыскать, потому “Финист-Ясный Сокол” так и отзывается в сердце. Очень сильный, красивый и неожиданный роман».
Михаил Визель в обзоре «5 книг недели. Выбор шеф-редактора (24)» («Год литературы») объясняет произвольно меняющуюся плотность архаизмов авторским замыслом и размышляет о непростых отношениях Рубанова с жанром славянского фэнтези: «Андрей Рубанов не идет на поводу у соблазна ровной стилизации, а нарочито взрыхляет ее. Если какое-то понятие можно выразить современным словом, он использует его, а если нет — придумывает или находит “славянское”. Так что мавки и лешаки славянского пантеона запросто перемежаются здесь жрецами и троглодитами, а не очень понятное “железное сажало” — вполне современными “набалдашниками из костяного массива”.
По всем показателям Андрей Рубанов написал роман жанрово- фэнтезийный: колоритный, тщательно прописанный “мир”, резко очерченные герои с четкой мотивацией, умеренный микс научно-исторических и сказочных допущений. По всем, кроме одного: Рубанов представлял уже читателям фантастику в духе, условно говоря, “Теллурии” Сорокина, но не имел доселе отношения к историческому фэнтези.
Одно из двух: надо или провозгласить, что полку писателей фэнтези прибыло, или признать наконец, что фэнтези — это часть литературного мейнстрима».
И, наконец, о продуманности «сттинга», кропотливой работе автора, выводящей роман за пределы «чистого жанра», пишет Наталья Кочеткова в обзоре «Проклятие и инцест» («Lenta.ru»): «Видно, что условная сказочная древность, в которой разворачивается сюжет “Финиста — ясного сокола”, Андрею Рубанову очень дорога. Он рисует ее с совершенно пелевинской кропотливостью, граничащей с занудством гика: штрих за штрихом, краска за краской, монолог за монологом, исповедь за исповедью, не уставая объяснять и описывать читателю законы и устройство мира, в котором живут его герои. Не только девка Марья с отцом-кузнецом и старшими сестрами, но и глум, от лица которого рассказывается о ранении Финиста. И оружейник, который помогает Марье во второй части добыть драконий яд, чтобы вылечить ее возлюбленного. Наконец Соловей-разбойник, который у Рубанова оказывается таким же птицечеловеком, как Финист, только изгнанным соплеменниками за преступление. Именно он доставляет Марью в небесный город.
Такая серьезность в деталях, на первый взгляд, уводит роман в жанровую литературу. Но и Пелевин бы читался как сугубое фэнтези, если бы не обязательные шуточки на тему виртуальных политиков, маршей протеста, феминизма и прочего. Однако по мере чтения все больше создается впечатление, что и Рубанов столь же привязан к действительности, несмотря на все коловороты. Просто его привязка другого рода — не обстебывание общественно-политических и мировозренческих перемен, а размышление над тем, что есть любовь, традиция, равенство и уважение. С его опрокинутой в сказку картиной мира можно спорить, — но не уважать ее нельзя. Она того заслуживает».


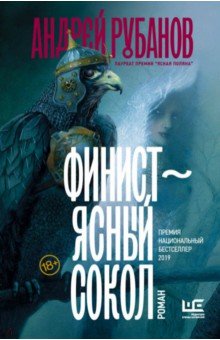 Евгения Вежлян в материале «Золотой дом, стихи-наркотики и смертельная белизна» («Литературно») говорит о методах, которые использует Андрей Рубанов, чтобы создать эффект погружения: «В основе сюжета — всем известная русская народная сказка о чудесном женихе-оборотне и его невесте, которая сначала его потеряла, а потом, пока искала, износила сто пар железных сапог. И ничего бы особенного не было в том, что автор залезает внутрь сказочного сюжета и пытается воссоздать в подробностях мир, в котором были бы возможны подобные события, если бы не способ, которым все это излагается. История делится на три эпизода, каждый из которых рассказан одним из его участников, причем рассказ выглядит так, как будто бы он был записан на диктофон. И сначала это кажется лишним и странным, даже раздражает (ну не Букша же это, в конце концов, не Анна Немзер, которые — для другого и о другом). А потом не только привыкаешь, но и понимаешь, что этот способ рассказа дает сильнейший эффект погружения. Так что интрига оказывается вроде бы даже и не в самих событиях. С детства хорошо известные сказочные эпизоды из-за этого эффекта диктофонной записи наполняются каким-то странным, почти неуловимым дополнительным смыслом. Он и влечет от страницы к странице, не позволяя оторваться от чтения… Все герои явно рассказывают свою историю кому-то конкретному, адресуются к кому-то за кадром, а он — записывает. Но кто он, этот загадочный слушатель? И только в самом конце твоя первоначальная догадка о том, что с рассказыванием что-то не так, получает самое неожиданное подтверждение... Но это, пожалуй, уже почти спойлер».
Евгения Вежлян в материале «Золотой дом, стихи-наркотики и смертельная белизна» («Литературно») говорит о методах, которые использует Андрей Рубанов, чтобы создать эффект погружения: «В основе сюжета — всем известная русская народная сказка о чудесном женихе-оборотне и его невесте, которая сначала его потеряла, а потом, пока искала, износила сто пар железных сапог. И ничего бы особенного не было в том, что автор залезает внутрь сказочного сюжета и пытается воссоздать в подробностях мир, в котором были бы возможны подобные события, если бы не способ, которым все это излагается. История делится на три эпизода, каждый из которых рассказан одним из его участников, причем рассказ выглядит так, как будто бы он был записан на диктофон. И сначала это кажется лишним и странным, даже раздражает (ну не Букша же это, в конце концов, не Анна Немзер, которые — для другого и о другом). А потом не только привыкаешь, но и понимаешь, что этот способ рассказа дает сильнейший эффект погружения. Так что интрига оказывается вроде бы даже и не в самих событиях. С детства хорошо известные сказочные эпизоды из-за этого эффекта диктофонной записи наполняются каким-то странным, почти неуловимым дополнительным смыслом. Он и влечет от страницы к странице, не позволяя оторваться от чтения… Все герои явно рассказывают свою историю кому-то конкретному, адресуются к кому-то за кадром, а он — записывает. Но кто он, этот загадочный слушатель? И только в самом конце твоя первоначальная догадка о том, что с рассказыванием что-то не так, получает самое неожиданное подтверждение... Но это, пожалуй, уже почти спойлер».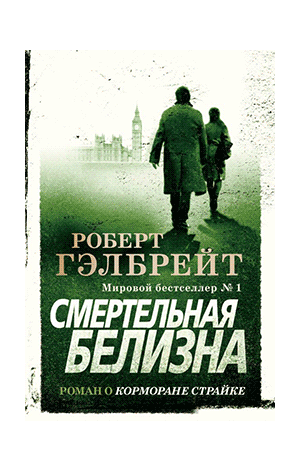 По-моему, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта - это не детектив. Да и все другие произведения, написанные Джоан Роулинг под этим именем, не вызывают того ощущения захваченности интригой, загадкой, уликами, дедукцией, разгадкой и прочим подобным, которое должен вызывать детектив, в том числе классический английский. Нет, можно не беспокоиться, труп есть, убийцу ищут, есть и шантаж, и слежка, и подслушивающие устройства, и темное прошлое со скелетами в шкафу, и многое другое, причем всего этого действительно так много, что, когда перечисляешь, создается полное ощущение детективной достаточности.
По-моему, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта - это не детектив. Да и все другие произведения, написанные Джоан Роулинг под этим именем, не вызывают того ощущения захваченности интригой, загадкой, уликами, дедукцией, разгадкой и прочим подобным, которое должен вызывать детектив, в том числе классический английский. Нет, можно не беспокоиться, труп есть, убийцу ищут, есть и шантаж, и слежка, и подслушивающие устройства, и темное прошлое со скелетами в шкафу, и многое другое, причем всего этого действительно так много, что, когда перечисляешь, создается полное ощущение детективной достаточности. 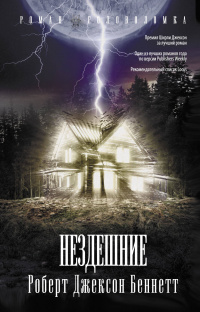 С первых же страниц – если не с первых строк – Беннетт бросает читателя в водоворот загадочных и страшных событий: тайная ночная операция, похищение, убийство – причём исполненное, мягко говоря, весьма необычным способом. У этих событий явственно ощущается запутанная и интригующая предыстория, и они, конечно же, будут иметь последствия. Но об их предыстории и последствиях можно лишь догадываться и с нетерпением переворачивать страницу за страницей: поначалу ничего не понятно, но чертовски увлекательно! Книга затягивает и властно ведёт за собой до самого финала, не отпуская. Примерно треть романа теряешься в догадках: что это? Мистика с хоррором? Научная фантастика, замаскированная под мистику? Или всё-таки мистика, что притворяется научной фантастикой?
С первых же страниц – если не с первых строк – Беннетт бросает читателя в водоворот загадочных и страшных событий: тайная ночная операция, похищение, убийство – причём исполненное, мягко говоря, весьма необычным способом. У этих событий явственно ощущается запутанная и интригующая предыстория, и они, конечно же, будут иметь последствия. Но об их предыстории и последствиях можно лишь догадываться и с нетерпением переворачивать страницу за страницей: поначалу ничего не понятно, но чертовски увлекательно! Книга затягивает и властно ведёт за собой до самого финала, не отпуская. Примерно треть романа теряешься в догадках: что это? Мистика с хоррором? Научная фантастика, замаскированная под мистику? Или всё-таки мистика, что притворяется научной фантастикой? В подвале дома пожилого доктора Харпера случайно обнаруживают изможденную девушку с примерно двухлетним ребенком. Как выясняется, Харпер страдает болезнью Альцгеймера, он то буйствует, то несёт ерунду, и толковых ответов на вопросы от него не дождешься. У спасенной девушки серьезное посттравматическое расстройство и она не произносит ни слова, соседи ничего не видели и не слышали - и как тут, спрашивается, вести расследование?. Возможно, Харпер похитил девушку, когда был ещё в относительно добром здравии, но болезнь постепенно затуманивала его разум и в итоге он просто забыл о пленнице? А может быть, доступ к подвалу имеет кто-то ещё?
В подвале дома пожилого доктора Харпера случайно обнаруживают изможденную девушку с примерно двухлетним ребенком. Как выясняется, Харпер страдает болезнью Альцгеймера, он то буйствует, то несёт ерунду, и толковых ответов на вопросы от него не дождешься. У спасенной девушки серьезное посттравматическое расстройство и она не произносит ни слова, соседи ничего не видели и не слышали - и как тут, спрашивается, вести расследование?. Возможно, Харпер похитил девушку, когда был ещё в относительно добром здравии, но болезнь постепенно затуманивала его разум и в итоге он просто забыл о пленнице? А может быть, доступ к подвалу имеет кто-то ещё?